Интервью
с куратором выставки
Павлом Котляром
на Радио Фонтанный Дом вышло большое интервью, посвящённое экспозиции. Вас ждёт разговор об Иосифе Бродском в неожиданной роли фотографа и активного собирателя, о кинематографичности его поэзии (которую некоторые критики называют бухгалтерской), фотографировании как способе зафиксировать взгляд, коллекционировании открыток как попытке составить музей или визуальную картотеку для одного зрителя – себя, страхе перед пустотой вселенной и честности зимы. Участники разговора: Анастасия Филиппова (А. Ф.) и Павел Котляр (П. К.).
Беседа доступна и в аудио-формате! Текстовая версия – ниже.
на Радио Фонтанный Дом вышло большое интервью, посвящённое экспозиции. Это разговор об Иосифе Бродском в неожиданной роли фотографа и активного собирателя, о кинематографичности его поэзии (которую некоторые критики называют бухгалтерской), фотографировании как способе зафиксировать взгляд, коллекционировании открыток как попытке составить музей или визуальную картотеку для одного зрителя – себя, страхе перед пустотой вселенной и честности зимы. Участники разговора: Анастасия Филиппова (А. Ф.) и Павел Котляр (П. К.).
Беседа доступна и в аудио-формате! Текстовая версия – ниже.
Одна из важных деталей прежнего вида «Натюрморта» – в нём не было человеческих лиц, кроме, наверное, портрета композитора Йозефа Гайдна, если это всё-таки он. Новая выставка это правило отрицает – теперь лиц здесь очень много, например, первая композиция на стене вся состоит из них. Я с собой долго боролась. С одной стороны, эта категоричность пространства без людей как-то приятнее, и вообще, «темнота извиняет отсутствие лиц», как нас «Колыбельная трескового мыса» учила. С другой стороны, это очень заманчивая возможность посмотреть на людей глазами Бродского, пусть и без прежней принципиальности. Как тебе кажется, что «Натюрморт» обретает, обрастая фотографиями людей, которые были важны для Бродского?
П. К. : Я думаю, «Натюрморт» стал более буквально связан с биографией Бродского. Ведь когда там этих изображений нет, в каком-то философском, общем смысле не важно, что эти вещи принадлежали ему. То есть, это высказывание, тотальная инсталляция о натюрморте, сложенном после смерти человека из его вещей и прочитанном через поэзию Бродского. При этом вещи-то его, и это делает «Натюрморт» абсолютно уникальным. Это не тиражируемый опыт, такое не повторить – так многое здесь совпало, чтобы это получилось.
Но, в какой-то степени, когда ты не говоришь «Этот стул отсюда», «Этот шкаф оттуда», «А этот чемодан тому-то принадлежал», это всё равно считывается. А вот с появлением фотографий, открыток и рисунков всё стало более биографично-конкретно. Потому что это фото самого Бродского, которых обычно там нет. Это кадры мест, где он бывал и с которыми связаны предметы конкретно в экспозиции, которые он откуда-то привозил или ему дарили. Вот лица близких ему людей: друзей, Ахматовой, а вот предметы, с ними связанные. Получилось не просто новое измерение «Натюрморта», а ещё один «Натюрморт». Потому что весь этот визуальный материал тоже в нарочито хаотичном стиле подан, и ты сам выхватываешь из этого «Натюрморта» (уже изображений) свои комбинации. И в сочетании с предметами в центре получается очень интересная картина, другое прочтение.
Выставка была бы не хуже, но совсем другой в помещении, где этих предметов нет. Да, можно было бы показать больше так называемого плоскостного материала, архивного, потому что далеко не всё вошло. Но это было бы совсем другое высказывание. А так прочтение обогатилось, и это здорово – значит, экспозицию можно перечитывать, причём не один раз.
А. Ф. : Для меня как зрителя это свидетельство того, насколько «Натюрморт» как экспозиция, как какая-то сущность живой. Ты не знаешь, чего от него ждать (хотя понятно, что всем руководит кураторская мысль), пространство постоянно меняется, иногда само себе противоречит, дополняется, при этом давая тебе новый массив: о чём ещё подумать, что сравнить, какие новые маленькие натюрморты внутри одного большого составить.
Если следовать за «Набережной неисцелимых», к которой мы в том числе отсылаем в этой выставке, с её «Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая всегда враждебна», то что вообще такое фотография в понимании Бродского как сына фотографа? Способ зафиксировать эту приспособленность и себя в ней? Попытка удержать мгновение, которое «не столь прекрасно, сколь неповторимо»? Или что-то ещё?
П. К. : Думаю, фотография для Бродского – способ сфокусироваться на чём-то. Когда фотографируешь, ты держишь фокус, из того ландшафта, что тебя окружает, вдруг выхватываешь комбинацию (вид, панораму, деталь, предмет) и её фиксируешь. Мне кажется, это так. Показательно, на что человек обратил внимание и как он это сфотографировал, зафиксировав тем самым свой взгляд.
Естественно, фотография – другой жанр, другая история. Условно, есть вид Петропавловской крепости, а есть её снимок, и это совсем другое. Даже если он классический, сделанный с привычного ракурса, он всё равно не тождественен реальности. Это не её фиксация. Мы используем слово «фотофиксация» в реставрационной среде, она бывает до реставрации, в процессе и так далее. Но само это слово может нам сослужить плохую службу – придём в смысловую ловушку и поверим, что, сфотографировав что-то, мы это зафиксировали. А на самом деле зафиксировали мы свой взгляд, а не то, что снимали. Это не вид Венеции, зафиксированный Бродским, а взгляд Бродского через объектив на Венецию.
А. Ф. : А насколько тогда его взгляд классический? То есть, похоже ли то, что он фотографировал, на кадры других людей или всё-таки у него было особенное видение тех перспектив, пейзажей, которые перед ним мелькали?
П. К. : Знаешь, мы бы всё-таки преувеличили, сказав, что Бродский был очень талантливым ярким фотографом. Он всё-таки фотограф-любитель, человек, для которого это не профессия или даже значимое хобби. Он просто жил в ту эпоху, когда фотография становится частью массовой повседневности. Появилась она, казалось бы, безумно давно – при Николае I, Лермонтов ещё был жив, но фотоаппарат в жизнь каждого человека пришёл довольно поздно. Жизнь Бродского – 50-е, 60-е, 70-е и дальше, особенно в эмиграции, когда он получает лёгкий доступ к другой технике (фотоаппаратам Kodak, цветным снимкам), вот он всё и фотографировал.
Естественно, интересно, что и как он снимает. Какие-то фотографии очень удачные с художественной точки зрения, какие-то – просто фиксация, но, как мне видится, специально он этим не занимался. И это, кстати, важная хронологическая история – что он жил во время внедрения в повседневность фотографирования – одна из причин того, что он самый фотографируемый литератор. Думаю, фотографий самого Бродского больше, чем снимков Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой и Пастернака вместе взятых. Наверное, я преувеличил, но красиво.
А. Ф. : Думаю, так и есть, да.
П. К. : А почему? Потому что была такая возможность, особенно там, за границей. Это ещё и история про определённую медийность. Например, у него безумное количество интервью, с тем же Буниным такой томины бесед выпустить бы не получилось. Потому что тогда по-другому работали медиа. Всё это очень исторично. При осмыслении Бродского как фотографа и объекта фотографирования контекст времени важен. Он тут очень попал во время.
А. Ф. : То есть, мы его можем назвать человеком своего времени?
П. К. : Как и любого. Любой человек – человек своего времени. Если мы оцениваем творчество, это другое дело. Где-то, может, опередил, где-то, может, нет. Но, мне кажется, те люди, которых мы зовём гениями в каких-то видах искусства, скорее, улавливают во времени или жизни то, что другие в этот момент не видят. Когда мы говорим «Он опередил своё время», мы ведь подразумеваем, что он увидел то, что остальные станут видеть позже. При этом я опять использую глагол, связанный со зрением. Видение, фокус взгляда и так далее, забавно, как всё это связано.
А. Ф. : Нужно будет посчитать, сколько мы раз за сегодня этот слово и его производные произнесём. Но тут оно неизбежно, как и поэзия. Раз заговорили про массовость фотографий: они ведь печатаются и становятся открытками. Ты в новом аудиогиде по выставке упоминаешь концепцию «воображаемого музея» Мальро, как раз в контексте собрания открыток Бродского. А я, их рассматривая во время монтажей, всё размышляла: а что всё это нам говорит о его вкусе собирателя, владельца своего внутреннего музея?
Мы видим Брака с его кларнетным натюрмортом, портреты викторианских красавиц, открытки с коринфским ордером вблизи, всякие репродукции фото Халсмана, изображения исторических личностей… И ощущение, будто вглядываешься в самого Бродского, потому что практически о каждой из этих открыток можно сказать, что такое выбрать мог только он. Но вот что это за набор, какой у Бродского взгляд я сформулировать не могу, а в твою способность к артикуляции верю, поэтому: кто такой Бродский-собиратель, что ему важно?
П. К. : Думаю, Бродский собирал свой вики-склад или свои гугл-картинки…
А. Ф. : Или Пинтерест
П. К. : Или Пинтерест, да. Я родился уже после того, как Бродский получил Нобелевскую премию. Но, тем не менее, чем моё поколение занималось в детстве? Были разные серии спичечных коробков, на которых печатались динозавры, техника, портреты известных людей, марки. Мы их вырезали и собирали. А шоколадки, на обёртке которых были картины из собрания Третьяковской галереи, становились для нас закладками в книги. Когда я разных гостей водил по Третьяковской галерее, всегда спрашивал: «А почему вы знаете эти картины?» Потому что все ходят и восклицают: «О, это же это!» Да потому что у тебя в учебнике «Родная речь» в начальной школе в конце было задание написать сочинение по картине, вдобавок – все эти шоколадки.
Так и у Бродского: нет интернета, нет той визуальной энциклопедии, в которую можно провалиться мгновенно. Это к вопросу о человеке своего времени. Мы эту важность материального, физического носителя картинки уже не понимаем, потому что любое изображение доступно мгновенно.
А. Ф. : И окружающий контекст изменился. Сейчас мы на шоколадках видим не репродукции картин, а продукт дизайна.
П. К. : Согласен. Как Бродский впервые увидел Венецию? В чёрно-белой книжке-раскладушке, которую ему подарила девушка. Это вам не 3D панорама или кино. Но что там воображение дорисовало, как он видел эту Венецию… Это другая визуальная культура восприятия мира. Для него, как и для многих людей его поколения, всякие вырезки, вчетверо сложенные репродукции были очень важны. Поэтому, если посмотрим на то, как выглядели его стол и книжные полки в доме Мурузи, заметим, что всё в картинках. Тут «Бегство в Египет», там Богоматерь, дальше важный для него поэт, какой-то вид. Все эти изображения, где-то мятые, чёрно-белые, непонятные, без какой-то цветокоррекции были окном не просто в воображаемый музей, а в другой мир.
Поэтому, если его интересует неподвижность: архитектура, вещи или неодушевлённая беспредметность, то он открытку с коринфским ордером и возьмёт. Или, об этом можно отдельно и долго говорить, у него в живописи был пул любимых художников, вот он открытки с их работами и собирает. Он пишет рождественские стихи? Поэтому у него множество разных «Бегств в Египет», картинок с волхвами, самим праздником и работ периода эпохи Ренессанса, которые основаны на Библии. Он человек, стремящийся к свободе и модности? Поэтому, конечно, у него много картинок с голливудскими актёрами и актрисами. Он человек, который может пошутить? Поэтому и хулиганское что-то будет. Я бы относился к этому так. Не то чтобы человек серьёзно собирает коллекцию открыток с репродукциями из музеев. Всё вроде бы и так, но, как мне кажется, это создание визуального пула образов, которые можно взять с собой и рассмотреть.
Мы это все не совсем понимаем, исходя не только из интернета. Например, даже каталоги. Когда смотришь каталоги времени Бродского – ещё ладно, какие-то жёлтые картины, но будут. А вот выставки начала XX века? Я работаю с архивом Александра Бенуа, видел, какие в его время были каталоги – брошюры, в которых только текст. Номера и названия картин. Так вот Бенуа зарисовывал сбоку все картины, которые его заинтересовали. Да, это графика, очень схематичная. Но он дописывал: вот тут цвет такой-то, вот тут художник недоработал – создаёт визуальный пласт впечатлений. Думаю, Бродский делал то же самое своим собирательством. Поэтому не обязательно в его коллекции открытки из тех мест, где он был. Это может быть набор открыток с работами конкретного художника, но из разных музеев.
А. Ф. : Ну, да, как с Матиссом

А. Ф. : Интересно, что ты туризм упоминаешь, мы же помним, как Бродский к нему относился. И здесь, в собирании открыток, речь тоже не о туризме, а о странствовании по визуальным образам, которое тебе что-то важное в твоём настоящем даёт.
А, говоря о книжке-раскладушке с видами Венеции, которую ты упомянул, тоже забавная связка возникает. Мы в «Натюрморте» часто говорим: да, Бродский писал так, как другие не писали, потому что он читал то, что другие не читали. Посмотрите на его библиотеку ленинградского периода – почти все корешки книг на английском языке. С книжкой-раскладушкой же то же самое – ты достраиваешь изображения, размышляешь о том, каких оттенков всё на самом деле, представляешь себя внутри этого. И это ведь тоже влияет на писательское сознание – насколько там фантазия подключается. Мне кажется, для него и его поэзии это тоже было важно.
П. К. : Да, особенно учитывая, что его поэзия зачастую кинематографична. Она очень монтажная: кадр-склейка, кадр-склейка. Например, знаменитые строки из «Писем римскому другу», чем там всё закачивается – чистая фиксация:
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Одна из важных деталей прежнего вида «Натюрморта» – в нём не было человеческих лиц, кроме, наверное, портрета композитора Йозефа Гайдна, если это всё-таки он. Новая выставка это правило отрицает – теперь лиц здесь очень много, например, первая композиция на стене вся состоит из них. Я с собой долго боролась. С одной стороны, эта категоричность пространства без людей как-то приятнее, и вообще, «темнота извиняет отсутствие лиц», как нас «Колыбельная трескового мыса» учила. С другой стороны, это очень заманчивая возможность посмотреть на людей глазами Бродского, пусть и без прежней принципиальности. Как тебе кажется, что «Натюрморт» обретает, обрастая фотографиями людей, которые были важны для Бродского?
П. К. : Я думаю, «Натюрморт» стал более буквально связан с биографией Бродского. Ведь когда там этих изображений нет, в каком-то философском, общем смысле не важно, что эти вещи принадлежали ему. То есть, это высказывание, тотальная инсталляция о натюрморте, сложенном после смерти человека из его вещей и прочитанном через поэзию Бродского. При этом вещи-то его, и это делает «Натюрморт» абсолютно уникальным. Это не тиражируемый опыт, такое не повторить – так многое здесь совпало, чтобы это получилось.
Но, в какой-то степени, когда ты не говоришь «Этот стул отсюда», «Этот шкаф оттуда», «А этот чемодан тому-то принадлежал», это всё равно считывается. А вот с появлением фотографий, открыток и рисунков всё стало более биографично-конкретно. Потому что это фото самого Бродского, которых обычно там нет. Это кадры мест, где он бывал и с которыми связаны предметы конкретно в экспозиции, которые он откуда-то привозил или ему дарили. Вот лица близких ему людей: друзей, Ахматовой, а вот предметы, с ними связанные. Получилось не просто новое измерение «Натюрморта», а ещё один «Натюрморт». Потому что весь этот визуальный материал тоже в нарочито хаотичном стиле подан, и ты сам выхватываешь из этого «Натюрморта» (уже изображений) свои комбинации. И в сочетании с предметами в центре получается очень интересная картина, другое прочтение.
Выставка была бы не хуже, но совсем другой в помещении, где этих предметов нет. Да, можно было бы показать больше так называемого плоскостного материала, архивного, потому что далеко не всё вошло. Но это было бы совсем другое высказывание. А так прочтение обогатилось, и это здорово – значит, экспозицию можно перечитывать, причём не один раз.
А. Ф. : Для меня как зрителя это свидетельство того, насколько «Натюрморт» как экспозиция, как какая-то сущность живой. Ты не знаешь, чего от него ждать (хотя понятно, что всем руководит кураторская мысль), пространство постоянно меняется, иногда само себе противоречит, дополняется, при этом давая тебе новый массив: о чём ещё подумать, что сравнить, какие новые маленькие натюрморты внутри одного большого составить.
Если следовать за «Набережной неисцелимых», к которой мы в том числе отсылаем в этой выставке, с её «Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая всегда враждебна», то что вообще такое фотография в понимании Бродского как сына фотографа? Способ зафиксировать эту приспособленность и себя в ней? Попытка удержать мгновение, которое «не столь прекрасно, сколь неповторимо»? Или что-то ещё?
П. К. : Думаю, фотография для Бродского – способ сфокусироваться на чём-то. Когда фотографируешь, ты держишь фокус, из того ландшафта, что тебя окружает, вдруг выхватываешь комбинацию (вид, панораму, деталь, предмет) и её фиксируешь. Мне кажется, это так. Показательно, на что человек обратил внимание и как он это сфотографировал, зафиксировав тем самым свой взгляд.
Естественно, фотография – другой жанр, другая история. Условно, есть вид Петропавловской крепости, а есть её снимок, и это совсем другое. Даже если он классический, сделанный с привычного ракурса, он всё равно не тождественен реальности. Это не её фиксация. Мы используем слово «фотофиксация» в реставрационной среде, она бывает до реставрации, в процессе и так далее. Но само это слово может нам сослужить плохую службу – придём в смысловую ловушку и поверим, что, сфотографировав что-то, мы это зафиксировали. А на самом деле зафиксировали мы свой взгляд, а не то, что снимали. Это не вид Венеции, зафиксированный Бродским, а взгляд Бродского через объектив на Венецию.
А. Ф. : А насколько тогда его взгляд классический? То есть, похоже ли то, что он фотографировал, на кадры других людей или всё-таки у него было особенное видение тех перспектив, пейзажей, которые перед ним мелькали?
П. К. : Знаешь, мы бы всё-таки преувеличили, сказав, что Бродский был очень талантливым ярким фотографом. Он всё-таки фотограф-любитель, человек, для которого это не профессия или даже значимое хобби. Он просто жил в ту эпоху, когда фотография становится частью массовой повседневности. Появилась она, казалось бы, безумно давно – при Николае I, Лермонтов ещё был жив, но фотоаппарат в жизнь каждого человека пришёл довольно поздно. Жизнь Бродского – 50-е, 60-е, 70-е и дальше, особенно в эмиграции, когда он получает лёгкий доступ к другой технике (фотоаппаратам Kodak, цветным снимкам), вот он всё и фотографировал.
Естественно, интересно, что и как он снимает. Какие-то фотографии очень удачные с художественной точки зрения, какие-то – просто фиксация, но, как мне видится, специально он этим не занимался. И это, кстати, важная хронологическая история – что он жил во время внедрения в повседневность фотографирования – одна из причин того, что он самый фотографируемый литератор. Думаю, фотографий самого Бродского больше, чем снимков Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой и Пастернака вместе взятых. Наверное, я преувеличил, но красиво.
А. Ф. : Думаю, так и есть, да.
П. К. : А почему? Потому что была такая возможность, особенно там, за границей. Это ещё и история про определённую медийность. Например, у него безумное количество интервью, с тем же Буниным такой томины бесед выпустить бы не получилось. Потому что тогда по-другому работали медиа. Всё это очень исторично. При осмыслении Бродского как фотографа и объекта фотографирования контекст времени важен. Он тут очень попал во время.
А. Ф. : То есть, мы его можем назвать человеком своего времени?
П. К. : Как и любого. Любой человек – человек своего времени. Если мы оцениваем творчество, это другое дело. Где-то, может, опередил, где-то, может, нет. Но, мне кажется, те люди, которых мы зовём гениями в каких-то видах искусства, скорее, улавливают во времени или жизни то, что другие в этот момент не видят. Когда мы говорим «Он опередил своё время», мы ведь подразумеваем, что он увидел то, что остальные станут видеть позже. При этом я опять использую глагол, связанный со зрением. Видение, фокус взгляда и так далее, забавно, как всё это связано.
А. Ф. : Нужно будет посчитать, сколько мы раз за сегодня этот слово и его производные произнесём. Но тут оно неизбежно, как и поэзия. Раз заговорили про массовость фотографий: они ведь печатаются и становятся открытками. Ты в новом аудиогиде по выставке упоминаешь концепцию «воображаемого музея» Мальро, как раз в контексте собрания открыток Бродского. А я, их рассматривая во время монтажей, всё размышляла: а что всё это нам говорит о его вкусе собирателя, владельца своего внутреннего музея?
Мы видим Брака с его кларнетным натюрмортом, портреты викторианских красавиц, открытки с коринфским ордером вблизи, всякие репродукции фото Халсмана, изображения исторических личностей… И ощущение, будто вглядываешься в самого Бродского, потому что практически о каждой из этих открыток можно сказать, что такое выбрать мог только он. Но вот что это за набор, какой у Бродского взгляд я сформулировать не могу, а в твою способность к артикуляции верю, поэтому: кто такой Бродский-собиратель, что ему важно?
П. К. : Думаю, Бродский собирал свой вики-склад или свои гугл-картинки…
А. Ф. : Или Пинтерест
П. К. : Или Пинтерест, да. Я родился уже после того, как Бродский получил Нобелевскую премию. Но, тем не менее, чем моё поколение занималось в детстве? Были разные серии спичечных коробков, на которых печатались динозавры, техника, портреты известных людей, марки. Мы их вырезали и собирали. А шоколадки, на обёртке которых были картины из собрания Третьяковской галереи, становились для нас закладками в книги. Когда я разных гостей водил по Третьяковской галерее, всегда спрашивал: «А почему вы знаете эти картины?» Потому что все ходят и восклицают: «О, это же это!» Да потому что у тебя в учебнике «Родная речь» в начальной школе в конце было задание написать сочинение по картине, вдобавок – все эти шоколадки.
Так и у Бродского: нет интернета, нет той визуальной энциклопедии, в которую можно провалиться мгновенно. Это к вопросу о человеке своего времени. Мы эту важность материального, физического носителя картинки уже не понимаем, потому что любое изображение доступно мгновенно.
А. Ф. : И окружающий контекст изменился. Сейчас мы на шоколадках видим не репродукции картин, а продукт дизайна.
П. К. : Согласен. Как Бродский впервые увидел Венецию? В чёрно-белой книжке-раскладушке, которую ему подарила девушка. Это вам не 3D панорама или кино. Но что там воображение дорисовало, как он видел эту Венецию… Это другая визуальная культура восприятия мира. Для него, как и для многих людей его поколения, всякие вырезки, вчетверо сложенные репродукции были очень важны. Поэтому, если посмотрим на то, как выглядели его стол и книжные полки в доме Мурузи, заметим, что всё в картинках. Тут «Бегство в Египет», там Богоматерь, дальше важный для него поэт, какой-то вид. Все эти изображения, где-то мятые, чёрно-белые, непонятные, без какой-то цветокоррекции были окном не просто в воображаемый музей, а в другой мир.
Поэтому, если его интересует неподвижность: архитектура, вещи или неодушевлённая беспредметность, то он открытку с коринфским ордером и возьмёт. Или, об этом можно отдельно и долго говорить, у него в живописи был пул любимых художников, вот он открытки с их работами и собирает. Он пишет рождественские стихи? Поэтому у него множество разных «Бегств в Египет», картинок с волхвами, самим праздником и работ периода эпохи Ренессанса, которые основаны на Библии. Он человек, стремящийся к свободе и модности? Поэтому, конечно, у него много картинок с голливудскими актёрами и актрисами. Он человек, который может пошутить? Поэтому и хулиганское что-то будет. Я бы относился к этому так. Не то чтобы человек серьёзно собирает коллекцию открыток с репродукциями из музеев. Всё вроде бы и так, но, как мне кажется, это создание визуального пула образов, которые можно взять с собой и рассмотреть.
Мы это все не совсем понимаем, исходя не только из интернета. Например, даже каталоги. Когда смотришь каталоги времени Бродского – ещё ладно, какие-то жёлтые картины, но будут. А вот выставки начала XX века? Я работаю с архивом Александра Бенуа, видел, какие в его время были каталоги – брошюры, в которых только текст. Номера и названия картин. Так вот Бенуа зарисовывал сбоку все картины, которые его заинтересовали. Да, это графика, очень схематичная. Но он дописывал: вот тут цвет такой-то, вот тут художник недоработал – создаёт визуальный пласт впечатлений. Думаю, Бродский делал то же самое своим собирательством. Поэтому не обязательно в его коллекции открытки из тех мест, где он был. Это может быть набор открыток с работами конкретного художника, но из разных музеев.
А. Ф. : Ну, да, как с Матиссом
П. К. : Да, и это не совсем туристические сувениры и напоминания о месте, а, скорее, визуальная картотека.
А. Ф. : Интересно, что ты туризм упоминаешь, мы же помним, как Бродский к нему относился. И здесь, в собирании открыток, речь тоже не о туризме, а о странствовании по визуальным образам, которое тебе что-то важное в твоём настоящем даёт.
А, говоря о книжке-раскладушке с видами Венеции, которую ты упомянул, тоже забавная связка возникает. Мы в «Натюрморте» часто говорим: да, Бродский писал так, как другие не писали, потому что он читал то, что другие не читали. Посмотрите на его библиотеку ленинградского периода – почти все корешки книг на английском языке. С книжкой-раскладушкой же то же самое – ты достраиваешь изображения, размышляешь о том, каких оттенков всё на самом деле, представляешь себя внутри этого. И это ведь тоже влияет на писательское сознание – насколько там фантазия подключается. Мне кажется, для него и его поэзии это тоже было важно.
П. К. : Да, особенно учитывая, что его поэзия зачастую кинематографична. Она очень монтажная: кадр-склейка, кадр-склейка. Например, знаменитые строки из «Писем римскому другу», чем там всё закачивается – чистая фиксация:
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
А. Ф. : Да нет, я тебе как редактор могу сказать, что здесь предлог выбивает из состояния комфортного чтения, и этим заставляет задуматься о формулировке.
П. К. : Супер, но это умышленно. И вообще разница предлогов «в» и «на» важна.
А. Ф. : Да нет, я тебе как редактор могу сказать, что здесь предлог выбивает из состояния комфортного чтения, и этим заставляет задуматься о формулировке.
П. К. : Супер, но это умышленно. И вообще разница предлогов «в» и «на» важна.
П. К. : Я это вижу ещё и как экскурсовод с каким-то стажем. Когда преподаю экскурсионное мастерство, есть вечная проблема. Люди, которые приходят учиться на экскурсовода, не верят мне, что надо всё описывать и показывать, мол, и так всё видно.
А. Ф. : Но каждый видит своё…
П. К. : Ты сейчас очень оптимистично говоришь. Я бы сказал: никто ничего не видит. Пока не скажешь, что это здание зелёное… И я это не со снобистских позиций говорю. Поэтому, когда ведёшь экскурсию, нужно описывать, «от показа к рассказу». Я застал ГЭБовских (Городского Экскурсионного Бюро) экскурсоводов 50-х годов, они часто говорили: «Накорми глаза». Это тоже тянет на физиологическое название выставки, но Бродский кормит глаза. Поэтому, когда говоришь:
Вещи и люди
Нас окружают
И те, и эти
Терзают глаз
они «глаз терзают», но я уверен, что если сходу человека попросить описать его комнату, что часто просят сделать на уроках иностранного языка, возникнут проблемы. Ты не сильно помнишь, что и где стоит – всё сливается в единый фон, и, пока зрение не сфокусируешь, что и делает экскурсовод, картинка не выстроится. Как, например, никогда не замечаешь, сколько вокруг звуков, пока не стоит задачи найти тихое помещение для записи. Оказывается, вокруг сплошные звуки, так и со зрением.
А. Ф. : Вернёмся к «Натюрморту»? Один из коллажей на выставке рассказывает историю об отсутствии. В центре – карандашный рисунок Бродского: пустая комната, печка в углу, закрытая дверь, над всем этим надпись «Где Марина?» Рисунок становится центром, стягивающим к себе фотографии пустых пейзажей и фрагментов венецианской квартиры. По-моему, гениальный коллаж. Почти детективная схема, за которой прячется то ли разбитое сердце, то ли одержимость, то ли ответ на вопрос, заданный самим Бродским в рисунке. «Где Марина?» Она нигде и при этом везде. И, конечно, это разговор о пустоте. А что такое пустота для Бродского, у него есть её оценка? И что вообще поэту даёт пустота?
П. К. : Я это вижу ещё и как экскурсовод с каким-то стажем. Когда преподаю экскурсионное мастерство, есть вечная проблема. Люди, которые приходят учиться на экскурсовода, не верят мне, что надо всё описывать и показывать, мол, и так всё видно.
А. Ф. : Но каждый видит своё…
П. К. : Ты сейчас очень оптимистично говоришь. Я бы сказал: никто ничего не видит. Пока не скажешь, что это здание зелёное… И я это не со снобистских позиций говорю. Поэтому, когда ведёшь экскурсию, нужно описывать, «от показа к рассказу». Я застал ГЭБовских (Городского Экскурсионного Бюро) экскурсоводов 50-х годов, они часто говорили: «Накорми глаза». Это тоже тянет на физиологическое название выставки, но Бродский кормит глаза. Поэтому, когда говоришь:
Вещи и люди
Нас окружают
И те, и эти
Терзают глаз
они «глаз терзают», но я уверен, что если сходу человека попросить описать его комнату, что часто просят сделать на уроках иностранного языка, возникнут проблемы. Ты не сильно помнишь, что и где стоит – всё сливается в единый фон, и, пока зрение не сфокусируешь, что и делает экскурсовод, картинка не выстроится. Как, например, никогда не замечаешь, сколько вокруг звуков, пока не стоит задачи найти тихое помещение для записи. Оказывается, вокруг сплошные звуки, так и со зрением.
А. Ф. : Вернёмся к «Натюрморту»? Один из коллажей на выставке рассказывает историю об отсутствии. В центре – карандашный рисунок Бродского: пустая комната, печка в углу, закрытая дверь, над всем этим надпись «Где Марина?» Рисунок становится центром, стягивающим к себе фотографии пустых пейзажей и фрагментов венецианской квартиры. По-моему, гениальный коллаж. Почти детективная схема, за которой прячется то ли разбитое сердце, то ли одержимость, то ли ответ на вопрос, заданный самим Бродским в рисунке. «Где Марина?» Она нигде и при этом везде. И, конечно, это разговор о пустоте. А что такое пустота для Бродского, у него есть её оценка? И что вообще поэту даёт пустота?
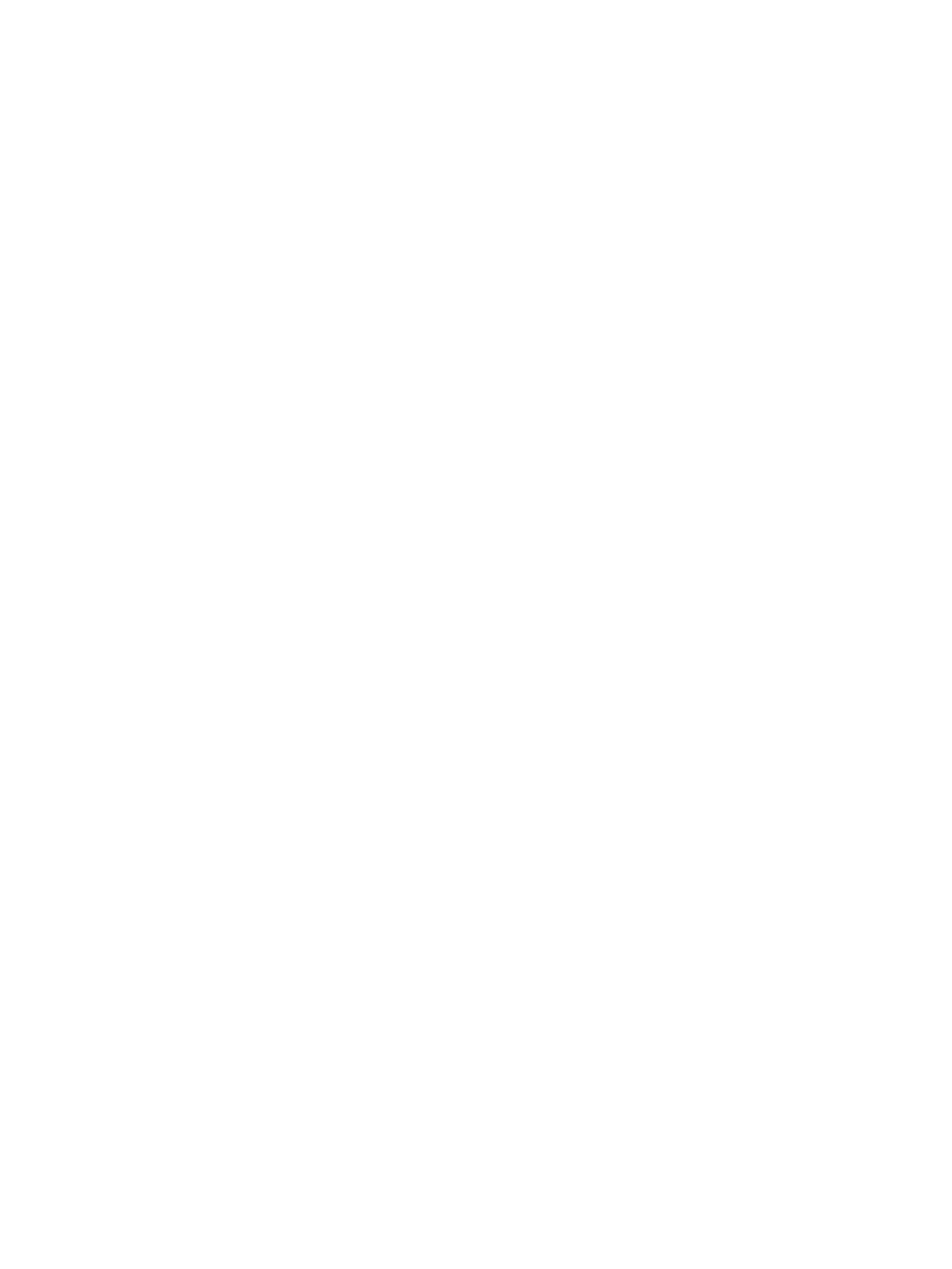
А. Ф. : И это как раз фотофиксация
П. К. : Да, и она идеально передаёт эту пустоту. Между рисунком и фотографиями 20 лет, а то и больше. Совсем другая жизнь, всё другое, а «память из зрачка не выколоть», в памяти-то всё есть, хотим мы этого или нет. И окружено всё это северным, пустынным, странным ландшафтом – фотографиями Бродского из его первого летнего отпуска в эмиграции, он летом 1973 года поехал не куда-то на пляж (не только из-за проблем с сердцем, но и вслед за эстетическим выбором), а на остров Инишбофин в Ирландии. Холодное море, ветра, это лето, но есть фото, на которых Бродский в шапке. Он смотрит на пейзаж, в котором абсолютная, бескрайняя пустота.
Я, думая про эту пустоту, вспоминаю стихотворение Бродского, которое он дорабатывал в 1980-е годы:
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту её, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.
Понимаю, что говорю очень высокопарные вещи, но пустота – это мир. Мир состоит из пустоты, в которой мы как-то обосновались на не пустом клочке вселенной, вокруг которого – пустота космоса. У Бродского в разных стихотворениях есть эта тема. Например, он говорит: «Представим себе абсолютную пустоту. Место без времени. Собственно воздух», «Кислород, водород», то есть, мы распадаемся на атомы, молекулы и прочее. Но в этой пустоте же страшно.
А. Ф. : Потому что глазу не за что зацепиться
П. К. : Конечно, не за что. И в этом смысле взгляд Бродского беспощаден, он ясно смотрит на твоё существование. У него есть стихотворение «Похороны Бобо» 1972 года – они расстались с девушкой, и он подводит некий итог…
А. Ф. : Да, «Ты всем была» и стала ничем
П. К. : «Точнее, сгустком пустоты»! «Что тоже, как подумаешь, немало». Но, с другой стороны,
Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.
Потому что ад – это хотя бы экшн, а пустота – пустота.
А. Ф. : А пустота у Бродского равна пространству?
П. К. : Мне кажется, нет. Сейчас чёткое определение не дам, но нюансированность здесь точно есть. Пространство всё равно
из чего-то состоит, это не совсем пустота. Это могут быть стены, ландшафт города, пейзаж – пространство более осязаемое, чем пустота, которая его наполняет. Когда ведёшь эмигрантскую жизнь, часто меняешь пространства, в которых находишься. Бродский быстро осел в Америке и особо не кочевал, но всё равно много и часто ездил. Я считаю, в этом смысле очень важны его строки из стихотворения 1994 года, когда он фиксирует:
меняются комнаты, кресла, стулья.
И всюду по стенам – то в рамке, то так – цветы.
И если бывает на свете пчела без улья
с лишней пыльцой на лапках, то это ты.
Ты в этом вакууме пустоты находишься, вокруг – пространства, в них есть вещи, ландшафты, но ты – один на один с вселенной и своей жизнью. На его ландшафтных фотографиях, собранных в наш выставочный коллаж, это хорошо видно. Поэтому его север интересует и зима как состояние, он постоянно говорил: «Зима честнее», почему? Потому что это холод. В сериале Соррентино «Молодой папа» Джуд Лоу как Папа Римский говорит своему собеседнику, кардиналу, цитируя Бродского напрямую: «Как говорил Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, красота при низких температурах – истинная красота». А что такое красота при низких температурах? Это и есть верхние слои стратосферы, «тамошняя» пустота, где молекулы воздуха уже разряжены, они друг от друга на большем расстоянии. И поэтому так пронзителен его «Осенний крик ястреба» про то, как этот ястреб высоко-высоко летит. В общем, судя по нашему диалогу, выставка далеко не только о картинках.
А. Ф. : И не только о котах, например, хотя их фото там тоже есть и часто перетягивают на себя внимание гостей.
П. К. : Да, там много поэтических слоёв.
А. Ф. : Мы говорили о фотографиях, которые Бродский сделал, когда вместе с Морганом хотел снять квартиру в Венеции. Они мне много что напоминают, например, «Ностальгию» Тарковского с её большими окнами в пустой комнате венецианского дома. И сделаны эти фото через несколько лет после выхода фильма, хотя, насколько помню, Бродский не очень высоко оценивал творчество Тарковского. Но какая-то связь в этом чувствуется.
А. Ф. : И это как раз фотофиксация
П. К. : Да, и она идеально передаёт эту пустоту. Между рисунком и фотографиями 20 лет, а то и больше. Совсем другая жизнь, всё другое, а «память из зрачка не выколоть», в памяти-то всё есть, хотим мы этого или нет. И окружено всё это северным, пустынным, странным ландшафтом – фотографиями Бродского из его первого летнего отпуска в эмиграции, он летом 1973 года поехал не куда-то на пляж (не только из-за проблем с сердцем, но и вслед за эстетическим выбором), а на остров Инишбофин в Ирландии. Холодное море, ветра, это лето, но есть фото, на которых Бродский в шапке. Он смотрит на пейзаж, в котором абсолютная, бескрайняя пустота.
Я, думая про эту пустоту, вспоминаю стихотворение Бродского, которое он дорабатывал в 1980-е годы:
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту её, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.
Понимаю, что говорю очень высокопарные вещи, но пустота – это мир. Мир состоит из пустоты, в которой мы как-то обосновались на не пустом клочке вселенной, вокруг которого – пустота космоса. У Бродского в разных стихотворениях есть эта тема. Например, он говорит: «Представим себе абсолютную пустоту. Место без времени. Собственно воздух», «Кислород, водород», то есть, мы распадаемся на атомы, молекулы и прочее. Но в этой пустоте же страшно.
А. Ф. : Потому что глазу не за что зацепиться
П. К. : Конечно, не за что. И в этом смысле взгляд Бродского беспощаден, он ясно смотрит на твоё существование. У него есть стихотворение «Похороны Бобо» 1972 года – они расстались с девушкой, и он подводит некий итог…
А. Ф. : Да, «Ты всем была» и стала ничем
П. К. : «Точнее, сгустком пустоты»! «Что тоже, как подумаешь, немало». Но, с другой стороны,
Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.
Потому что ад – это хотя бы экшн, а пустота – пустота.
А. Ф. : А пустота у Бродского равна пространству?
П. К. : Мне кажется, нет. Сейчас чёткое определение не дам, но нюансированность здесь точно есть. Пространство всё равно
из чего-то состоит, это не совсем пустота. Это могут быть стены, ландшафт города, пейзаж – пространство более осязаемое, чем пустота, которая его наполняет. Когда ведёшь эмигрантскую жизнь, часто меняешь пространства, в которых находишься. Бродский быстро осел в Америке и особо не кочевал, но всё равно много и часто ездил. Я считаю, в этом смысле очень важны его строки из стихотворения 1994 года, когда он фиксирует:
меняются комнаты, кресла, стулья.
И всюду по стенам – то в рамке, то так – цветы.
И если бывает на свете пчела без улья
с лишней пыльцой на лапках, то это ты.
Ты в этом вакууме пустоты находишься, вокруг – пространства, в них есть вещи, ландшафты, но ты – один на один с вселенной и своей жизнью. На его ландшафтных фотографиях, собранных в наш выставочный коллаж, это хорошо видно. Поэтому его север интересует и зима как состояние, он постоянно говорил: «Зима честнее», почему? Потому что это холод. В сериале Соррентино «Молодой папа» Джуд Лоу как Папа Римский говорит своему собеседнику, кардиналу, цитируя Бродского напрямую: «Как говорил Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, красота при низких температурах – истинная красота». А что такое красота при низких температурах? Это и есть верхние слои стратосферы, «тамошняя» пустота, где молекулы воздуха уже разряжены, они друг от друга на большем расстоянии. И поэтому так пронзителен его «Осенний крик ястреба» про то, как этот ястреб высоко-высоко летит. В общем, судя по нашему диалогу, выставка далеко не только о картинках.
А. Ф. : И не только о котах, например, хотя их фото там тоже есть и часто перетягивают на себя внимание гостей.
П. К. : Да, там много поэтических слоёв.
А. Ф. : Мы говорили о фотографиях, которые Бродский сделал, когда вместе с Морганом хотел снять квартиру в Венеции. Они мне много что напоминают, например, «Ностальгию» Тарковского с её большими окнами в пустой комнате венецианского дома. И сделаны эти фото через несколько лет после выхода фильма, хотя, насколько помню, Бродский не очень высоко оценивал творчество Тарковского. Но какая-то связь в этом чувствуется.


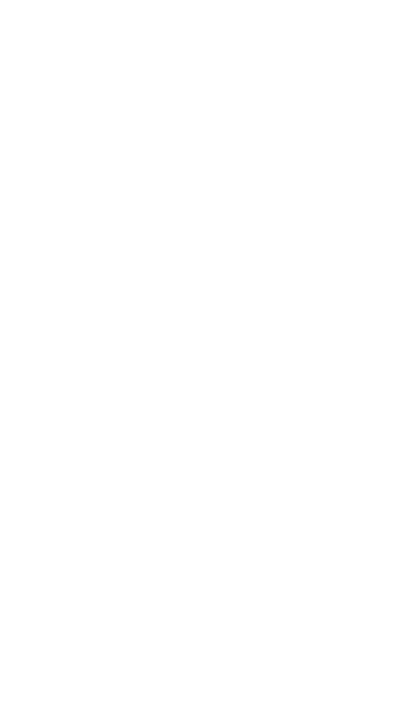

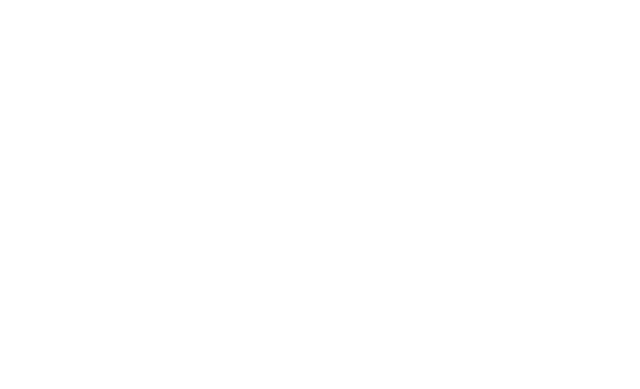
А. Ф. : Да, но при этом «память нас предаёт»
П. К. : Конечно, предаёт. Ничего поймать нельзя, всё это – только сейчас. И вообще правды нет, ничего нет. У американского слависта Светланы Бойм, уже ушедшей, к сожалению, есть книга о ностальгии. Там есть глава про Полторы комнаты, в ней есть о чём поспорить и подумать. Является ли эссе Бродского «Полторы комнаты» текстом ностальгическим? Мне кажется, это не ностальгия, а проработка травмы. Отражается ли это в его рисунках и фотографиях – хороший вопрос, нужно рассмотреть, подумать об этом.
А. Ф. : Под конец припрятала любопытный для себя вопрос. Когда мы работаем с фондовыми предметами, будь то ради статьи, выставки или просто по чистому любопытству, неизбежно появляются сомнения в точности атрибуции. Начинаешь проверять, что-то об этом узнавать, читать, спрашивать и порой, что жутко интересно, происходит чарующий процесс – переатрибуция. У тебя, насколько знаю, это тоже случалось во время работы над натюрмортной выставкой, что же там было?
П. К. : Исследование предмета – довольно бесконечный процесс. Если он закончился, значит, всё плохо. Это неправильное состояние. Предмет постоянно находится в фокусе нашего внимания, по-другому на него смотришь. Например, смотришь на фотопортрет конкретного человека, а у него стоит дата под вопросом, и непонятно, где это сделано. А ты вдруг вспоминаешь, что недавно видел фотографию, где этот же человек стоит в группе людей, этот снимок тоже сделан Бродским, изображённая там в той же одежде, то есть, это тот же вечер. А вспомнившийся снимок атрибутирован точно, потому что на заднике фотографии вписана дата. И там, благодаря одному снимку, ты атрибутируешь другой. Это кажется технической ерундой, но процесс очень важен.
Для понимания этой стороны работы музейщика можно вспомнить свои старые семейные альбомы. Там всё легко атрибутируется? Все люди подписаны? Это ж вечная проблема: дай бог всем здоровья, но старшее поколение уходит, а именно оно часто говорило, кто изображён на фотографии, всех перечисляли.
А. Ф. : А ты не записывал…
П. К. : Да, а теперь этого человека нет, и всё… Установить, кто изображён на фотографии, становится иногда невозможно. А так это целое исследование. Например, в книгу замечательного польского поэта и эссеиста Виктора Ворошильского, которая принадлежала Бродскому и теперь хранится у нас в музее, была вложена открытка с фотопортретом философа Ханны Арендт. Это автор книги «Банальность зла», которую на всех гуманитарных западных факультетах изучают. На обратной стороне открытки – письмо, его нужно было расшифровать и перевести, но было известно, кто и когда это Бродскому послал. Мы знали, что книгу вместе с открыткой ему кто-то прислал бандеролью – это к вопросу о том, как формируется воображаемый музей. Бродский не покупал портрет Ханны Арендт, но засунул открытку с ней в книжку. Это 1995 год, последний полный год его жизни. Когда Бродского не стало, вдова Мария Соццани-Бродская передала множество его вещей в музей, в том числе – эту книгу с открыткой.
Что теперь с этим делать музейщикам, как атрибутировать предмет? Ирена Грудзинская-Гросс, которая этот подарок Бродскому отправила, ведь понимала, кому присылает, они были знакомы. Выбор ей именно этого портрета всё-таки обусловлен адресатом. Это не буквально взгляд Бродского, но и он. Потому что это та часть визуального мира, который у него в голове оседает из того, что поступает извне.
А. Ф. : Это постоянный контекст. Когда ты в книжку вкладываешь открытку, делая её закладкой, понятно, что, пока читаешь, это изображение перед тобой постоянно мелькает.
П. К. : Естественно. Такие перечисления и уточнения происходят постоянно. Если пользоваться этим громким словом «переатрибуция», у нас был ряд фотографий, которые совершенно правильно были идентифицированы как кадры, сделанные в Национальном музее антропологии Мехико. Бродский ездил в Мексику в 1975. Понятно, что человеку, живущему в США, в Мексику съездить совсем недалеко, хотя для нас это полная экзотика, неочевидное туристическое направление. Я сходу не вспомню русских писателей и поэтов, кто был в Мексике. А Бродский был, и он всё фотографировал, в том числе – старые города со знаменитыми пирамидами, просто колорит городских улиц. А ещё есть фото, сделанные в экспозиции музея: вон он идёт, его привлекает экспонат, и он снимает его.
А. Ф. : Да, но при этом «память нас предаёт»
П. К. : Конечно, предаёт. Ничего поймать нельзя, всё это – только сейчас. И вообще правды нет, ничего нет. У американского слависта Светланы Бойм, уже ушедшей, к сожалению, есть книга о ностальгии. Там есть глава про Полторы комнаты, в ней есть о чём поспорить и подумать. Является ли эссе Бродского «Полторы комнаты» текстом ностальгическим? Мне кажется, это не ностальгия, а проработка травмы. Отражается ли это в его рисунках и фотографиях – хороший вопрос, нужно рассмотреть, подумать об этом.
А. Ф. : Под конец припрятала любопытный для себя вопрос. Когда мы работаем с фондовыми предметами, будь то ради статьи, выставки или просто по чистому любопытству, неизбежно появляются сомнения в точности атрибуции. Начинаешь проверять, что-то об этом узнавать, читать, спрашивать и порой, что жутко интересно, происходит чарующий процесс – переатрибуция. У тебя, насколько знаю, это тоже случалось во время работы над натюрмортной выставкой, что же там было?
П. К. : Исследование предмета – довольно бесконечный процесс. Если он закончился, значит, всё плохо. Это неправильное состояние. Предмет постоянно находится в фокусе нашего внимания, по-другому на него смотришь. Например, смотришь на фотопортрет конкретного человека, а у него стоит дата под вопросом, и непонятно, где это сделано. А ты вдруг вспоминаешь, что недавно видел фотографию, где этот же человек стоит в группе людей, этот снимок тоже сделан Бродским, изображённая там в той же одежде, то есть, это тот же вечер. А вспомнившийся снимок атрибутирован точно, потому что на заднике фотографии вписана дата. И там, благодаря одному снимку, ты атрибутируешь другой. Это кажется технической ерундой, но процесс очень важен.
Для понимания этой стороны работы музейщика можно вспомнить свои старые семейные альбомы. Там всё легко атрибутируется? Все люди подписаны? Это ж вечная проблема: дай бог всем здоровья, но старшее поколение уходит, а именно оно часто говорило, кто изображён на фотографии, всех перечисляли.
А. Ф. : А ты не записывал…
П. К. : Да, а теперь этого человека нет, и всё… Установить, кто изображён на фотографии, становится иногда невозможно. А так это целое исследование. Например, в книгу замечательного польского поэта и эссеиста Виктора Ворошильского, которая принадлежала Бродскому и теперь хранится у нас в музее, была вложена открытка с фотопортретом философа Ханны Арендт. Это автор книги «Банальность зла», которую на всех гуманитарных западных факультетах изучают. На обратной стороне открытки – письмо, его нужно было расшифровать и перевести, но было известно, кто и когда это Бродскому послал. Мы знали, что книгу вместе с открыткой ему кто-то прислал бандеролью – это к вопросу о том, как формируется воображаемый музей. Бродский не покупал портрет Ханны Арендт, но засунул открытку с ней в книжку. Это 1995 год, последний полный год его жизни. Когда Бродского не стало, вдова Мария Соццани-Бродская передала множество его вещей в музей, в том числе – эту книгу с открыткой.
Что теперь с этим делать музейщикам, как атрибутировать предмет? Ирена Грудзинская-Гросс, которая этот подарок Бродскому отправила, ведь понимала, кому присылает, они были знакомы. Выбор ей именно этого портрета всё-таки обусловлен адресатом. Это не буквально взгляд Бродского, но и он. Потому что это та часть визуального мира, который у него в голове оседает из того, что поступает извне.
А. Ф. : Это постоянный контекст. Когда ты в книжку вкладываешь открытку, делая её закладкой, понятно, что, пока читаешь, это изображение перед тобой постоянно мелькает.
П. К. : Естественно. Такие перечисления и уточнения происходят постоянно. Если пользоваться этим громким словом «переатрибуция», у нас был ряд фотографий, которые совершенно правильно были идентифицированы как кадры, сделанные в Национальном музее антропологии Мехико. Бродский ездил в Мексику в 1975. Понятно, что человеку, живущему в США, в Мексику съездить совсем недалеко, хотя для нас это полная экзотика, неочевидное туристическое направление. Я сходу не вспомню русских писателей и поэтов, кто был в Мексике. А Бродский был, и он всё фотографировал, в том числе – старые города со знаменитыми пирамидами, просто колорит городских улиц. А ещё есть фото, сделанные в экспозиции музея: вон он идёт, его привлекает экспонат, и он снимает его.



А. Ф. : Как чудесно с «Натюрмортом» рифмуется
П. К. : Отлично! Это черепушка, которую, как кокошник, венчает диск, но он поломался. Удалость найти научные статьи на испанском про этот диск, это, оказывается, один из главных шедевров этого музея, археологи нашли его только в 1963. То есть, когда Бродский его в 1975 фотографирует, он снимает почти новое поступление. В табличке рядом это явно было указано. Вокруг этого владыки подземного мира целая мифология: про смерть, неизбежность и то, что «у неё будут твои глаза». Всё это очень интересно, учитывая, что это ацтеки, доколумбовская Америка.
Или, например, на ещё одном снимке Бродского – маска Маленалтепек, которую удалось установить по испанским каталогам. Она использовалась в разных приношениях. Короче говоря, на снимках Бродского – не просто какие-то забавные старые рожи из известняка, базальта и чего-то ещё. Это то, что привлекло его довольно сознательно, возможно, не только обликом.
А. Ф. : К разговору о методе отбора, даже нашим глазом
П. К. : Да, а сколько нам ещё открытий чудных предстоит…
А. Ф. : Как чудесно с «Натюрмортом» рифмуется
П. К. : Отлично! Это черепушка, которую, как кокошник, венчает диск, но он поломался. Удалость найти научные статьи на испанском про этот диск, это, оказывается, один из главных шедевров этого музея, археологи нашли его только в 1963. То есть, когда Бродский его в 1975 фотографирует, он снимает почти новое поступление. В табличке рядом это явно было указано. Вокруг этого владыки подземного мира целая мифология: про смерть, неизбежность и то, что «у неё будут твои глаза». Всё это очень интересно, учитывая, что это ацтеки, доколумбовская Америка.
Или, например, на ещё одном снимке Бродского – маска Маленалтепек, которую удалось установить по испанским каталогам. Она использовалась в разных приношениях. Короче говоря, на снимках Бродского – не просто какие-то забавные старые рожи из известняка, базальта и чего-то ещё. Это то, что привлекло его довольно сознательно, возможно, не только обликом.
А. Ф. : К разговору о методе отбора, даже нашим глазом
П. К. : Да, а сколько нам ещё открытий чудных предстоит…





