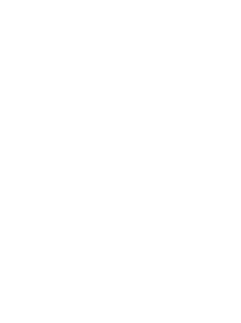
Анна Ахматова и Владимир Шилейко
«Я переезжаю в Шереметевский Дом. Там живет один замечательный человек. Знаешь, я считаю его гениальным», — так, по воспоминаниям подруги Анны Ахматовой Валерии Срезневской, поэт сообщила о переезде к своему будущему мужу, ученому-ассириологу Владимиру Шилейко в Фонтанный Дом.
Анна Ахматова и Владимир Шилейко были знакомы с начала 1910-х годов: Шилейко был тесно связан с «Цехом поэтов» — поэтическим содружеством, в которое входили Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Лозинский, М. Зенкевич, В. Нарбут и др.
Владимир Шилейко поселился в Фонтанном Доме осенью 1916 года — граф Павел Шереметев пригласил его в качестве учителя для своих детей.
Видимо, осенью 1917 года, для Шилейко и Ахматовой начался важный период отношений, связанный с Фонтанным Домом.
Много лет спустя, уже в 1960-е годы, Ахматова пыталась восстановить события той осени и по памяти записала три стихотворений Шилейко, сделав под ними помету:
«1 ноября (ст[арого] стиля)
1917 С. П[етербург] Фонтанный Дом
(Шумерийская кофейня)».
«Шумерийской кофейней» называли комнату Шилейко, пропахшую кофе и заваленную табличками с шумерийской клинописью. А три стихотворения Шилейко спустя десятилетия слились в памяти Ахматовой и, по ее представлениям, заканчивались строчками:
Осталась ты, моя голубка,
Да он, грустящий по тебе
На самом деле эти строчки завершают одно стихотворение:
В ожесточенные годины
Последним звуком высоты,
Короткой песней лебединой,
Одной звездой осталась ты.
Над ядом гибельного кубка,
Созвучно горестной судьбе
Осталась ты, моя голубка,
Да он, грустящий по тебе.
Эти стихи, несомненно, обращены к Ахматовой. Ахматовская помета под ними, вероятнее всего, указывает дату и место ее встречи с Шилейко: в этот день Владимир Казимирович прочел стихи Ахматовой, или этот день послужил толчком для их создания.
Стихотворными посланиями Ахматова и Шилейко обменивались давно. Стиль этого диалога, порою очень серьезного, исповедального, стал своего рода стилем их отношений еще со времени «Цеха поэтов» и «Бродячей собаки».
В декабре 1918 года Шилейко зарегистрировал их брак в нотариальной конторе Литейной части Петроградской стороны. Ахматова при этом не присутствовала. В послереволюционные годы, когда старые традиции были уничтожены, а новые еще не появились, оформление брака или развода было несложной процедурой.
Именно здесь, в Фонтанном Доме осенью 1918 года Владимир Шилейко готовил к изданию том «Ассиро-вавилонского эпоса». Эта работа составляла главный смысл и содержание его жизни, и «Шумерийская кофейня» была заполнена глиняными табличками с клинописью, которые ученый переводил «с листа» вслух, а Ахматова с голоса записывала перевод.
«Они выходили на улицу на час, — записал с ее слов Павел Лукницкий, — гуляли, потом возвращались — и до 4 часов ночи работали… АА писала под его диктовку. По шесть часов подряд записывала. Во Всемирной литературе должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой АА…»
В эти годы Шилейко занимался как исследовательской, так и преподавательской работой: с 1918 года он ассистент при Отделении древностей Эрмитажа, член Коллегии по делам музеев, член Археологической комиссии; с 1919 года заведует разрядом (отделом) археологии и искусства Древнего Востока Академии истории материальной культуры, в которую выбран академиком; читает лекции в Археологическом институте; кроме того, преподает в поэтической студии при издательстве «Всемирная литература».
Однако жалованья и пайков, получаемых Шилейко и — эпизодически — Ахматовой, все равно не хватало. «Три года голода, — вспоминала об этом времени Анна Андреевна. — Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко — нечего было и не в чем, за каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли».
Живя в Фонтанном Доме в 1918—1920 годах, Ахматова писала мало. Стихи публиковались только в периодике. Переиздавались ранние ее сборники: «Четки» и «Белая стая». «Подорожник» — первая книга, собранная Ахматовой после революции, — вышел в 1921 году.
Вяч. Вс. Иванов, известный филолог и лингвист, заметил, что для Ахматовой и Шилейко характерно «единство аскетического отшельнического тона, для стихов Шилейко изначально заданного, а у Ахматовой постепенно возобладавшего. Вероятно, в поэтической биографии Ахматовой именно этим и обозначен прежде всего ее длящийся всю жизнь диалог с Шилейко».
Но при всей значимости отношений этих двух людей, их брак оказался непрочным.
С октября 1920 года Ахматова начала служить в библиотеке Петроградского агрономического института (Фонтанка, 6). От работы она получила две комнаты на Сергиевской улице11, в доме 7, где жила до осени 1921 года. Так закончился первый период жизни Ахматовой в Фонтанном Доме. Переезд на Сергиевскую она считала и концом брака с Шилейко, хотя полного разрыва отношений не произошло. Павел Лукницкий записал с ее слов: «Пока видела, что Шилейко безумен — не уходила от него, не могла уйти». В первый же день, как увидела, что он может быть без нее — ушла от него.
Официальный развод состоялся лишь 8 июня 1926 года, когда Шилейко решил оформить свои отношения с Верой Константиновной Андреевой, жившей в Москве.
Но дружеские отношения с Шилейко сохранились. Расставаясь, они переписывались. В 60-е годы Ахматова показывала Анатолию Найману несколько писем Шилейко: они были написаны каллиграфическим почерком, в изящной манере, с очаровательными наблюдениями книжного человека, с выписками на разных языках. Письма дружеские, не супружеские, с шутливой подписью вроде «Ваши слоны» и нарисованным слоном. Владимир Казимирович сохранил записку Ахматовой от 26 ноября 1928 года: «Милый друг, посылаю тебе мои стихотворения. Если у тебя есть время сегодня вечером — просмотри их. Многое я уже изъяла — очень уж плохо. Отметь на отдельной бумажке то, что ты не считаешь быть достойным напечатанным. Завтра зайду. Прости, что беспокою тебя. Твоя Ахматова».
Подготовлено по материалам «Анна Ахматова и Фонтанный Дом». Глава первая. Попова Н. И., Рубинчик О.Е.
Анна Ахматова и Владимир Шилейко были знакомы с начала 1910-х годов: Шилейко был тесно связан с «Цехом поэтов» — поэтическим содружеством, в которое входили Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Лозинский, М. Зенкевич, В. Нарбут и др.
Владимир Шилейко поселился в Фонтанном Доме осенью 1916 года — граф Павел Шереметев пригласил его в качестве учителя для своих детей.
Видимо, осенью 1917 года, для Шилейко и Ахматовой начался важный период отношений, связанный с Фонтанным Домом.
Много лет спустя, уже в 1960-е годы, Ахматова пыталась восстановить события той осени и по памяти записала три стихотворений Шилейко, сделав под ними помету:
«1 ноября (ст[арого] стиля)
1917 С. П[етербург] Фонтанный Дом
(Шумерийская кофейня)».
«Шумерийской кофейней» называли комнату Шилейко, пропахшую кофе и заваленную табличками с шумерийской клинописью. А три стихотворения Шилейко спустя десятилетия слились в памяти Ахматовой и, по ее представлениям, заканчивались строчками:
Осталась ты, моя голубка,
Да он, грустящий по тебе
На самом деле эти строчки завершают одно стихотворение:
В ожесточенные годины
Последним звуком высоты,
Короткой песней лебединой,
Одной звездой осталась ты.
Над ядом гибельного кубка,
Созвучно горестной судьбе
Осталась ты, моя голубка,
Да он, грустящий по тебе.
Эти стихи, несомненно, обращены к Ахматовой. Ахматовская помета под ними, вероятнее всего, указывает дату и место ее встречи с Шилейко: в этот день Владимир Казимирович прочел стихи Ахматовой, или этот день послужил толчком для их создания.
Стихотворными посланиями Ахматова и Шилейко обменивались давно. Стиль этого диалога, порою очень серьезного, исповедального, стал своего рода стилем их отношений еще со времени «Цеха поэтов» и «Бродячей собаки».
В декабре 1918 года Шилейко зарегистрировал их брак в нотариальной конторе Литейной части Петроградской стороны. Ахматова при этом не присутствовала. В послереволюционные годы, когда старые традиции были уничтожены, а новые еще не появились, оформление брака или развода было несложной процедурой.
Именно здесь, в Фонтанном Доме осенью 1918 года Владимир Шилейко готовил к изданию том «Ассиро-вавилонского эпоса». Эта работа составляла главный смысл и содержание его жизни, и «Шумерийская кофейня» была заполнена глиняными табличками с клинописью, которые ученый переводил «с листа» вслух, а Ахматова с голоса записывала перевод.
«Они выходили на улицу на час, — записал с ее слов Павел Лукницкий, — гуляли, потом возвращались — и до 4 часов ночи работали… АА писала под его диктовку. По шесть часов подряд записывала. Во Всемирной литературе должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой АА…»
В эти годы Шилейко занимался как исследовательской, так и преподавательской работой: с 1918 года он ассистент при Отделении древностей Эрмитажа, член Коллегии по делам музеев, член Археологической комиссии; с 1919 года заведует разрядом (отделом) археологии и искусства Древнего Востока Академии истории материальной культуры, в которую выбран академиком; читает лекции в Археологическом институте; кроме того, преподает в поэтической студии при издательстве «Всемирная литература».
Однако жалованья и пайков, получаемых Шилейко и — эпизодически — Ахматовой, все равно не хватало. «Три года голода, — вспоминала об этом времени Анна Андреевна. — Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко — нечего было и не в чем, за каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли».
Живя в Фонтанном Доме в 1918—1920 годах, Ахматова писала мало. Стихи публиковались только в периодике. Переиздавались ранние ее сборники: «Четки» и «Белая стая». «Подорожник» — первая книга, собранная Ахматовой после революции, — вышел в 1921 году.
Вяч. Вс. Иванов, известный филолог и лингвист, заметил, что для Ахматовой и Шилейко характерно «единство аскетического отшельнического тона, для стихов Шилейко изначально заданного, а у Ахматовой постепенно возобладавшего. Вероятно, в поэтической биографии Ахматовой именно этим и обозначен прежде всего ее длящийся всю жизнь диалог с Шилейко».
Но при всей значимости отношений этих двух людей, их брак оказался непрочным.
С октября 1920 года Ахматова начала служить в библиотеке Петроградского агрономического института (Фонтанка, 6). От работы она получила две комнаты на Сергиевской улице11, в доме 7, где жила до осени 1921 года. Так закончился первый период жизни Ахматовой в Фонтанном Доме. Переезд на Сергиевскую она считала и концом брака с Шилейко, хотя полного разрыва отношений не произошло. Павел Лукницкий записал с ее слов: «Пока видела, что Шилейко безумен — не уходила от него, не могла уйти». В первый же день, как увидела, что он может быть без нее — ушла от него.
Официальный развод состоялся лишь 8 июня 1926 года, когда Шилейко решил оформить свои отношения с Верой Константиновной Андреевой, жившей в Москве.
Но дружеские отношения с Шилейко сохранились. Расставаясь, они переписывались. В 60-е годы Ахматова показывала Анатолию Найману несколько писем Шилейко: они были написаны каллиграфическим почерком, в изящной манере, с очаровательными наблюдениями книжного человека, с выписками на разных языках. Письма дружеские, не супружеские, с шутливой подписью вроде «Ваши слоны» и нарисованным слоном. Владимир Казимирович сохранил записку Ахматовой от 26 ноября 1928 года: «Милый друг, посылаю тебе мои стихотворения. Если у тебя есть время сегодня вечером — просмотри их. Многое я уже изъяла — очень уж плохо. Отметь на отдельной бумажке то, что ты не считаешь быть достойным напечатанным. Завтра зайду. Прости, что беспокою тебя. Твоя Ахматова».
Подготовлено по материалам «Анна Ахматова и Фонтанный Дом». Глава первая. Попова Н. И., Рубинчик О.Е.





